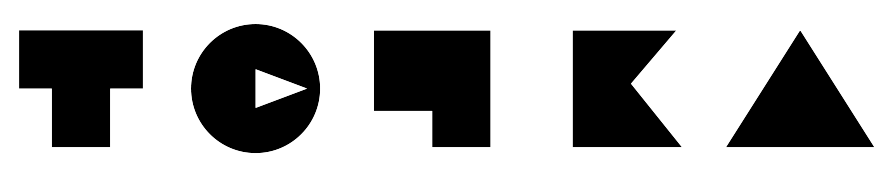«Ленинградский постмодернизм. Взгляд из XXI века»
20 фотографов × 20 зданий
20 фотографов × 20 зданий
13.09.25-18.11.25 | Кураторы: Владимир Фролов, Андрей Ларионов
На первой выставке «Ленинградский модернизм. Взгляд из XXI века», открывшейся почти 20 лет назад, в 2006 году, в петербургском Доме архитектора, было представлено 20 работ фотографов разных поколений и направлений; на этих снимках авторы запечатлели 20 построек советской эпохи, выбранных куратором Владимиром Фроловым совместно с профессором архитектуры Владимиром Лисовским. Спустя 14 лет, для открытия архитектурной фотогалереи «Точка», проект был продолжен 20 работами других фотографов, создавших свои версии 20 позднесоветских зданий нашего города. В фокусе экспозиции, сокуратором которой выступал архитектор Евгений Лобанов, были уже не только модернистские, но и постмодернистские постройки.
На новой выставке в «Точке» 20 новых фотографов представили авторский взгляд на 20 объектов ленинградского постмодернизма.
В экспертный совет выставки вошли доктор искусствоведения Владимир Лисовский, руководитель Библиотеки и арт-резиденции ШКАФ Анастасия Гусева, фотограф Алиса Гиль, искусствоведы Андрей Ларионов, который выступил также сокуратором, и Элина Левицкая.
Участники: Ксения Никольская, Олег Матюхин, Ольга Алексеенко, Артур Сахаров, Александр Верёвкин, Олег Савунов, Александр Седельников, Марина Рейзберг, Василий Чунаев, Денис Шулепов, Полина Назарова, Дмитрий Провоторов, Екатерина Титенко, Виталий Северов, Олег Шагапов, Александр Татаренко, Мадина Астахова, Анна Скударь, Игорь Брякилев и Лина Самигуллина.
Координатор выставки: Анастасия Мартынова
Экспозиция: Алиса Гиль
Графика: Антон Тендитный
Менеджер проектов: Анна Попова
На новой выставке в «Точке» 20 новых фотографов представили авторский взгляд на 20 объектов ленинградского постмодернизма.
В экспертный совет выставки вошли доктор искусствоведения Владимир Лисовский, руководитель Библиотеки и арт-резиденции ШКАФ Анастасия Гусева, фотограф Алиса Гиль, искусствоведы Андрей Ларионов, который выступил также сокуратором, и Элина Левицкая.
Участники: Ксения Никольская, Олег Матюхин, Ольга Алексеенко, Артур Сахаров, Александр Верёвкин, Олег Савунов, Александр Седельников, Марина Рейзберг, Василий Чунаев, Денис Шулепов, Полина Назарова, Дмитрий Провоторов, Екатерина Титенко, Виталий Северов, Олег Шагапов, Александр Татаренко, Мадина Астахова, Анна Скударь, Игорь Брякилев и Лина Самигуллина.
Координатор выставки: Анастасия Мартынова
Экспозиция: Алиса Гиль
Графика: Антон Тендитный
Менеджер проектов: Анна Попова

Карта
архитектурных объектов
"Ленинградский постмодернизм. Взгляд из XXI века"
архитектурных объектов
"Ленинградский постмодернизм. Взгляд из XXI века"
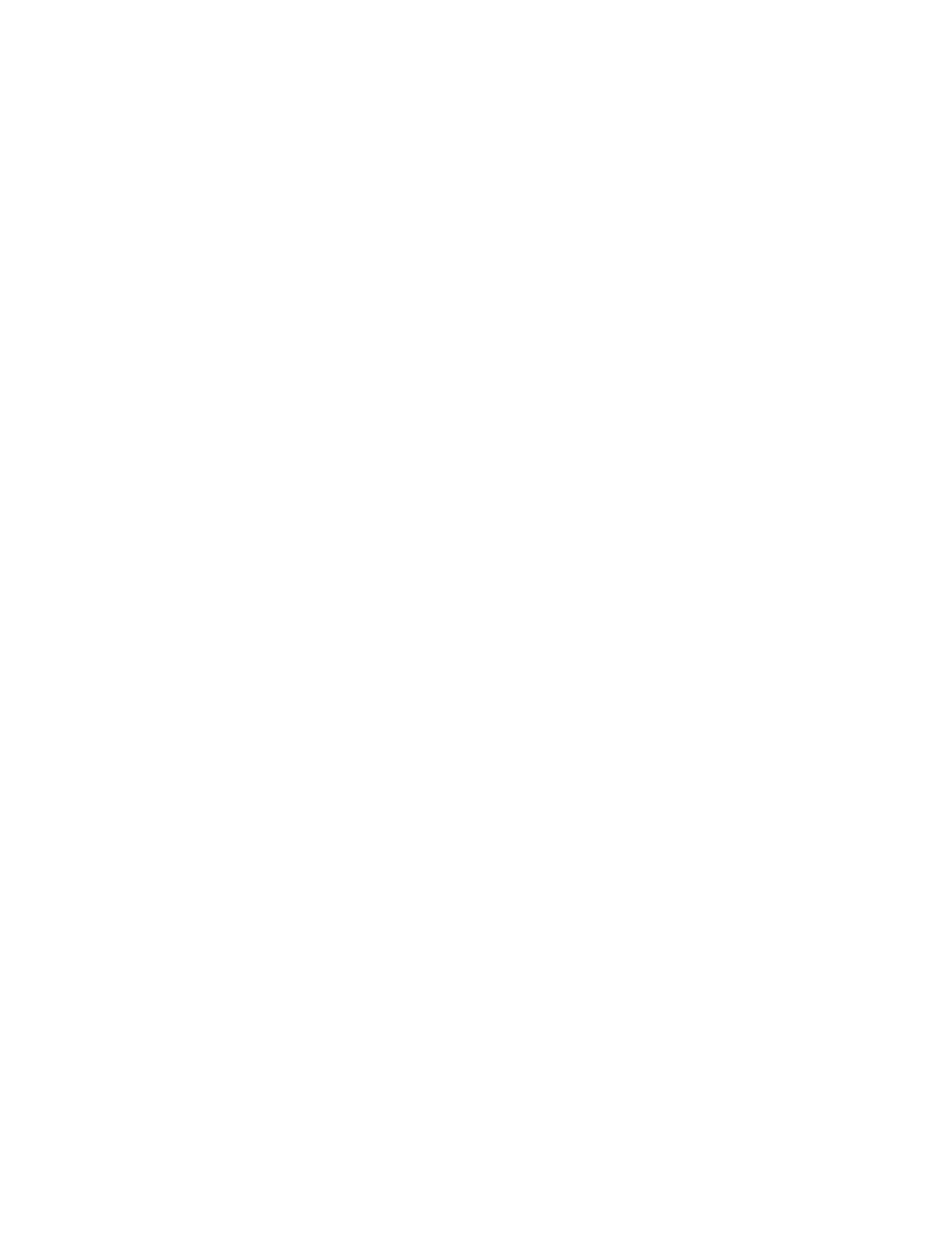
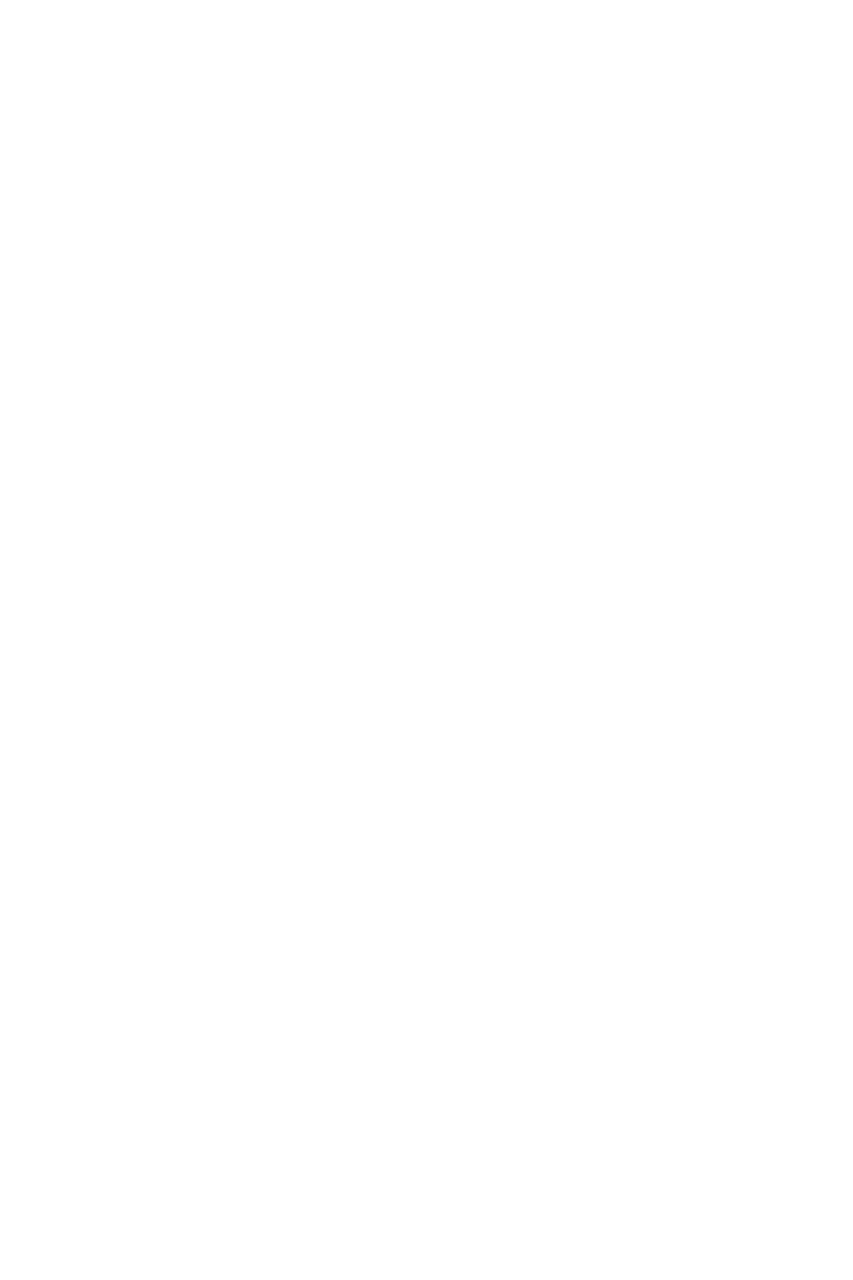
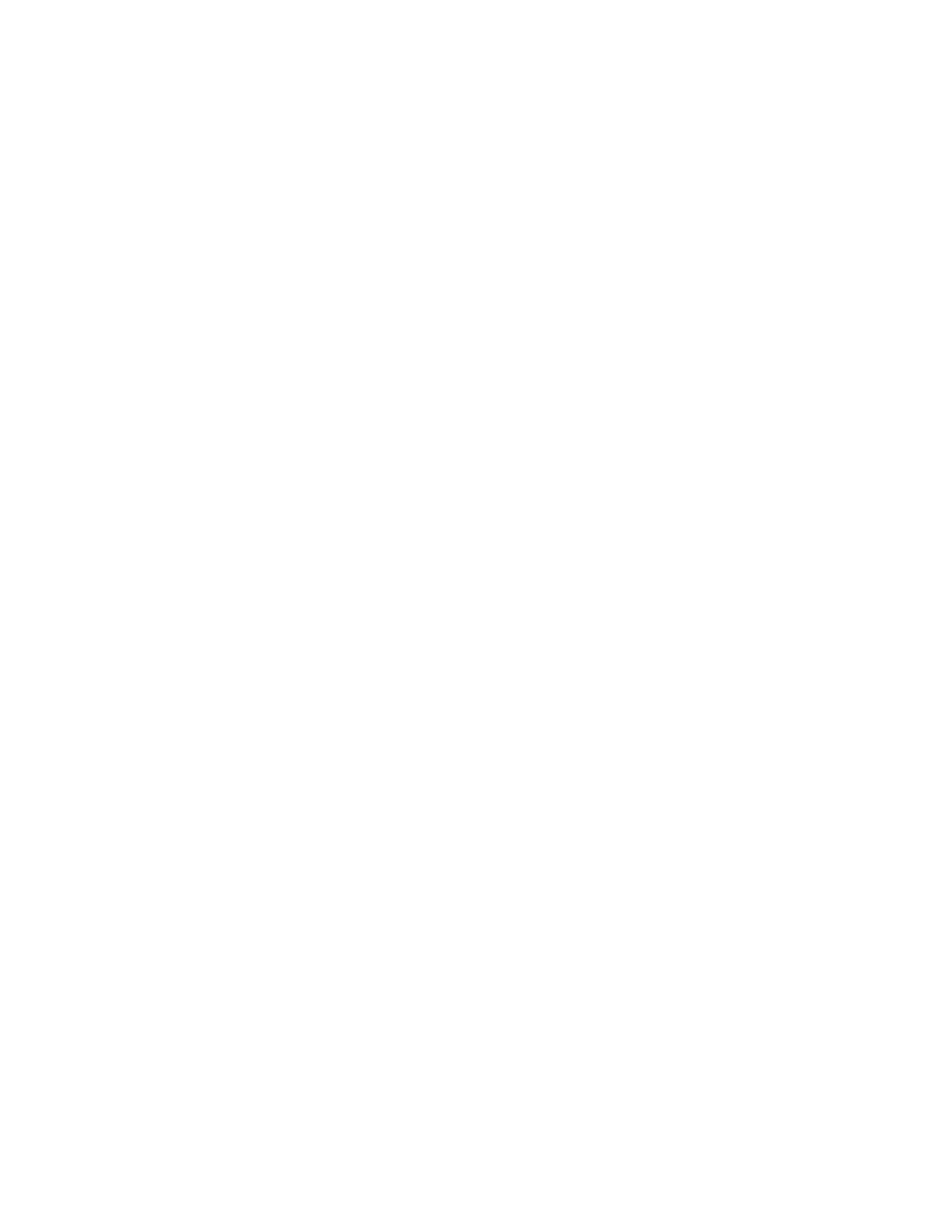
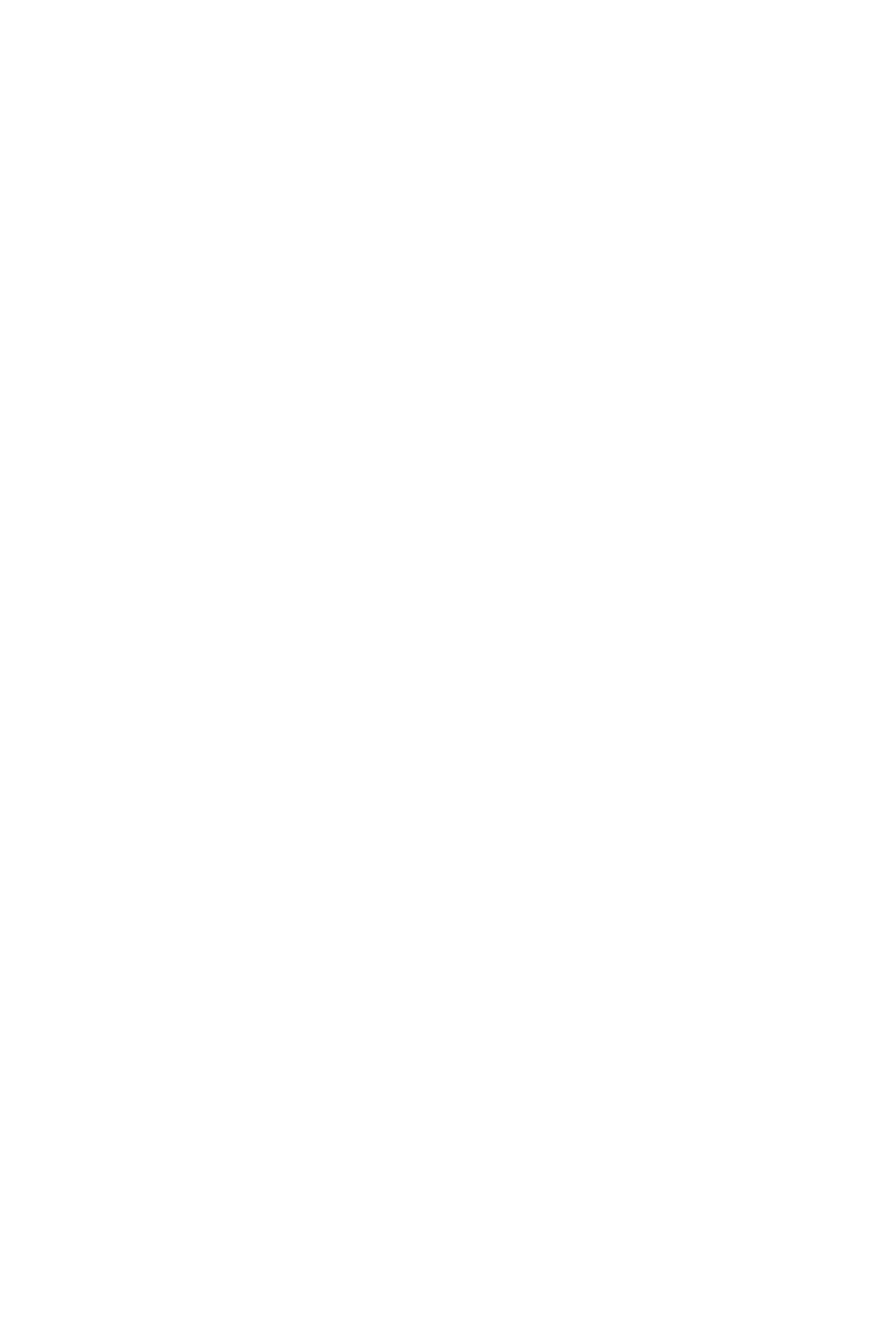
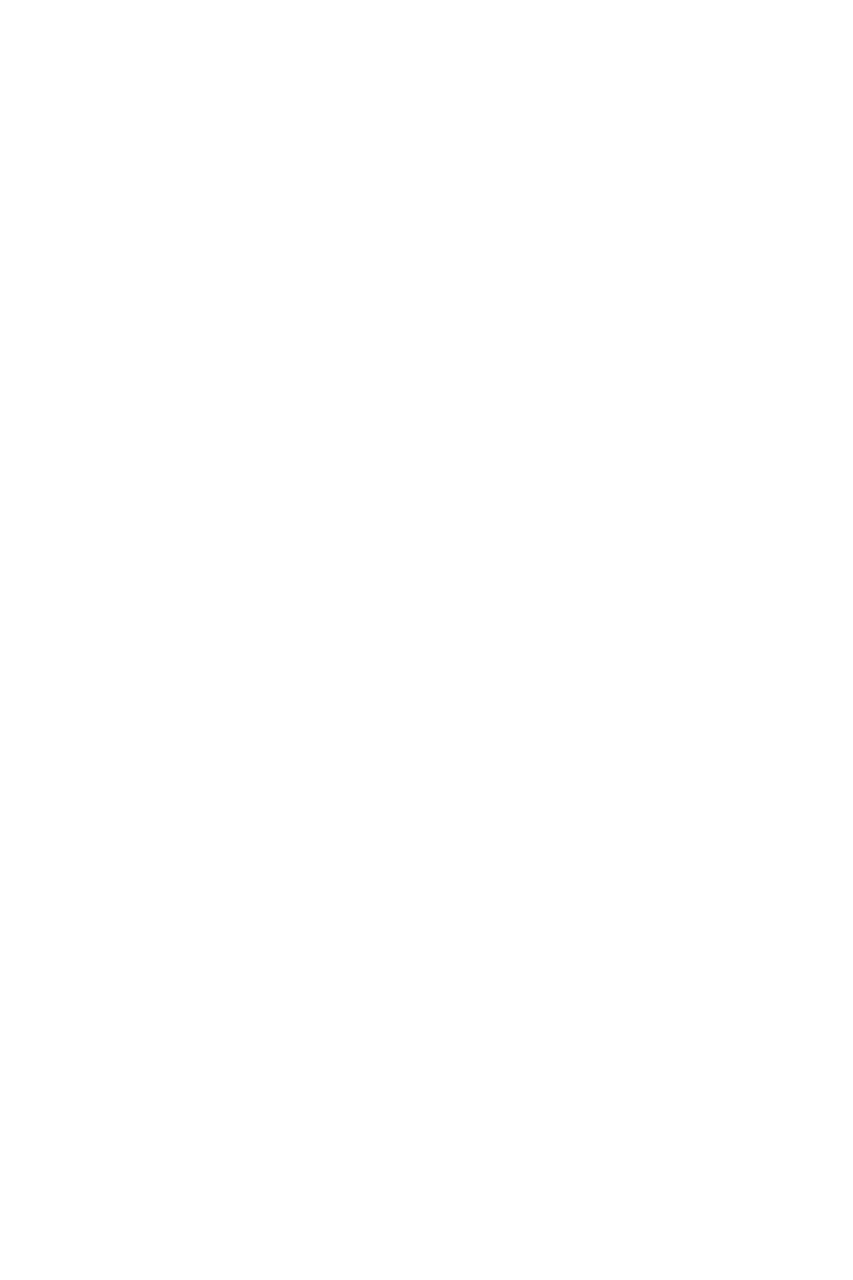
манифест
«Ленинградский постмодернизм. Взгляд из XXI века»
Искусство фотографии генетически связано с модернизмом. Оно осуществило революцию, пошатнув устои традиционных визуальных искусств. Однако немецкий теоретик медиа и фотограф второй половины прошлого века Вилем Флюссер ставит фотографию в ряд постисторических феноменов, порожденных информационным обществом. С одной стороны, фотография нас «программирует», делая частью социального «аппарата», а с другой – художник оказывается в силах пусть редко, но обеспечить при помощи своего фотожеста победу человеческого духа над программой. По Флюссеру, фотограф «зашифровывает» найденное им положение дел, а это уже чистой воды постмодернистская практика, так как нам (зрителям, критикам) необходимо дешифровать послание.
В архитектуре Петербурга ленинградского периода самым известным примером постмодернизма стал детский сад в переулке Джамбула, построенный по проекту Сергея Шмакова в 1984 году. Фотография этого «масонского садика», как его окрестили вследствие загадочной геометрической символики, была показана во второй части нашей выставки-трилогии, посвященной позднесоветскому зодчеству города на Неве, – «Ленинградский модернизм и постмодернизм. Взгляд из XXI века» (2020). Автор того снимка, Владимир Антощенков, знаменитый фотограф и архитектор, несомненно был человеком постмодернистского художественного склада. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с названиями кадров в любом из его фотоальбомов. Однако маловероятно, что сам он записал бы себя в постмодернисты. Не причисляет к ним себя и зодчий Шмаков. Стандартный ответ творческих людей этого поколения на вопрос о стиле уклончив. Они не представляют никакой стиль. В отличие от модернистов, высказывавшихся против всего старого, в том числе и против категории стиля, постмодернисты отказались и от отрицания. Их деятельность была включающего, а не исключающего, типа.
Постмодернистский метод не прибегает к лозунгам и приказам, он действительно похож на используемый шифровальщиком. Скрывая истинное содержание, такой автор оставляет подсказки-ключи, дабы зритель – или, точнее, читатель (вторая половина XX века – время веры в то, что всё есть текст) – догадался о наличии скрытого смысла. Рассуждения постмодерниста не стоит принимать за чистую монету, его культурная идентичность раскрывается структурой произведения, а не декларациями. Тем более что последние в официальном искусстве нашей страны до 1991 года могли относиться только к «социалистическому реализму» – единственно возможному тогда стилю.
Самый известный фотограф-постмодернист, и на сей раз вовсе не скрывающий своей принадлежности к направлению, – Андрей Чежин (он представитель уже следующего поколения художников, и потому его отношение к стилистической самоидентификации более свободное). Работа Чежина украсила обложку каталога самой первой выставки нашего проекта – «Ленинградский модернизм. Взгляд из XXI века» (2006). «Зачем же было звать постмодерниста для отображения модернистского здания?» – подумаете вы. Возможно, правильный ответ заключается в том, что лишь со времени постмодернизма мы вообще оказываемся способными адекватно взглянуть на модернизм, не подвергнувшись его магическому воздействию. Ведь наивно было бы предположить, что модернизм совершенно честен и никогда не вводит нас в заблуждение. Тем не менее его прямолинейность (та, что так раздражала архитектора Роберта Вентури, одного из отцов постмодернизма в мировом зодчестве) была настолько действенна, что многие поверили в мечту о лучшем и справедливом мире. Многие, но не все.
Так когда же именно возник постмодернизм? Если внимательно посмотреть на произведения самой ранней модернистской архитектуры, то можно увидеть, что уже в них присутствуют черты постмодернизма: как своего рода диалектический антитезис, как рефлексия и как игра, которая ставит под сомнение весь авангардный утопический порыв. Каждый фотограф, принявший участие в заключительной выставке нашей трилогии – «Ленинградский постмодернизм. Взгляд из XXI века», столкнулся с конкретным примером наследия этого стиля в Ленинграде и был поставлен перед выбором: трактовать объект непосредственно, если угодно – по-модернистски честно, или отказаться от прямого прочтения, сыграть с ним в постмодернистскую игру, словно бы удвоив тем самым его сложность и неоднозначность.
Несмотря на то что манеры и методы фотографов – разные, при взгляде на все работы охватывает ощущение некоторой общей нереальности или даже сюрреальности предъявленных архитектурных сюжетов. Авторы, а это в основном молодые мастера, смотрят на ленинградские объекты через пусть еще не очень толстое, но местами сильно потускневшее стекло послесоветских лет. И если они пользуются постмодернистскими приемами, то это уже не тот постмодернизм, что был прежде. Снимки в массе своей комплиментарны, и в то же время им как будто зачастую не хватает некой определенности, сосредоточенности, ясности послания. Словно авторы в момент съемки думают о чем-то или ком-то еще. Объекты фрагментированы, даны в ракурсах, через отражения, взор зрителя продирается через массу наложений фильтров и постобработки, а если архитектура все же представлена «канонично», то невольно начинаешь подозревать ее саму в некоем подвохе. В центре одного из кадров – как бы случайная вывеска «Театр сказки». Быть может, это подсказка…
В 1971 году Андрей Битов написал самый известный постмодернистский роман о Ленинграде – «Пушкинский дом». В приложении к его третьей части автор так охарактеризовал действительность своего времени: «…она монолитна и дырява». Монолитные бетонные (иногда кирпичные) произведения архитектуры соцреализма, двигавшегося к закату, содержали дыры (проемы, порталы), которые становились заметны под определенным углом и лишь тем, кто умел смотреть. Сквозь эти «дыры постмодернизма» можно было порой разглядеть картины иных, порой далеких, мест, но чаще всего – сам Петербург, из «готовых камней» которого вот уже 60 с лишним лет строился «город трех революций».
Если так, то куда же ведут найденные и предъявленные «объекты-проемы» сегодня? Полагаю, что ответ все тот же. Петербург остается главным героем «сказочного театра» на Балтике, за каким бы псевдонимом он ни скрывался и как бы ни хотел запутать следы.
Владимир Фролов
В архитектуре Петербурга ленинградского периода самым известным примером постмодернизма стал детский сад в переулке Джамбула, построенный по проекту Сергея Шмакова в 1984 году. Фотография этого «масонского садика», как его окрестили вследствие загадочной геометрической символики, была показана во второй части нашей выставки-трилогии, посвященной позднесоветскому зодчеству города на Неве, – «Ленинградский модернизм и постмодернизм. Взгляд из XXI века» (2020). Автор того снимка, Владимир Антощенков, знаменитый фотограф и архитектор, несомненно был человеком постмодернистского художественного склада. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с названиями кадров в любом из его фотоальбомов. Однако маловероятно, что сам он записал бы себя в постмодернисты. Не причисляет к ним себя и зодчий Шмаков. Стандартный ответ творческих людей этого поколения на вопрос о стиле уклончив. Они не представляют никакой стиль. В отличие от модернистов, высказывавшихся против всего старого, в том числе и против категории стиля, постмодернисты отказались и от отрицания. Их деятельность была включающего, а не исключающего, типа.
Постмодернистский метод не прибегает к лозунгам и приказам, он действительно похож на используемый шифровальщиком. Скрывая истинное содержание, такой автор оставляет подсказки-ключи, дабы зритель – или, точнее, читатель (вторая половина XX века – время веры в то, что всё есть текст) – догадался о наличии скрытого смысла. Рассуждения постмодерниста не стоит принимать за чистую монету, его культурная идентичность раскрывается структурой произведения, а не декларациями. Тем более что последние в официальном искусстве нашей страны до 1991 года могли относиться только к «социалистическому реализму» – единственно возможному тогда стилю.
Самый известный фотограф-постмодернист, и на сей раз вовсе не скрывающий своей принадлежности к направлению, – Андрей Чежин (он представитель уже следующего поколения художников, и потому его отношение к стилистической самоидентификации более свободное). Работа Чежина украсила обложку каталога самой первой выставки нашего проекта – «Ленинградский модернизм. Взгляд из XXI века» (2006). «Зачем же было звать постмодерниста для отображения модернистского здания?» – подумаете вы. Возможно, правильный ответ заключается в том, что лишь со времени постмодернизма мы вообще оказываемся способными адекватно взглянуть на модернизм, не подвергнувшись его магическому воздействию. Ведь наивно было бы предположить, что модернизм совершенно честен и никогда не вводит нас в заблуждение. Тем не менее его прямолинейность (та, что так раздражала архитектора Роберта Вентури, одного из отцов постмодернизма в мировом зодчестве) была настолько действенна, что многие поверили в мечту о лучшем и справедливом мире. Многие, но не все.
Так когда же именно возник постмодернизм? Если внимательно посмотреть на произведения самой ранней модернистской архитектуры, то можно увидеть, что уже в них присутствуют черты постмодернизма: как своего рода диалектический антитезис, как рефлексия и как игра, которая ставит под сомнение весь авангардный утопический порыв. Каждый фотограф, принявший участие в заключительной выставке нашей трилогии – «Ленинградский постмодернизм. Взгляд из XXI века», столкнулся с конкретным примером наследия этого стиля в Ленинграде и был поставлен перед выбором: трактовать объект непосредственно, если угодно – по-модернистски честно, или отказаться от прямого прочтения, сыграть с ним в постмодернистскую игру, словно бы удвоив тем самым его сложность и неоднозначность.
Несмотря на то что манеры и методы фотографов – разные, при взгляде на все работы охватывает ощущение некоторой общей нереальности или даже сюрреальности предъявленных архитектурных сюжетов. Авторы, а это в основном молодые мастера, смотрят на ленинградские объекты через пусть еще не очень толстое, но местами сильно потускневшее стекло послесоветских лет. И если они пользуются постмодернистскими приемами, то это уже не тот постмодернизм, что был прежде. Снимки в массе своей комплиментарны, и в то же время им как будто зачастую не хватает некой определенности, сосредоточенности, ясности послания. Словно авторы в момент съемки думают о чем-то или ком-то еще. Объекты фрагментированы, даны в ракурсах, через отражения, взор зрителя продирается через массу наложений фильтров и постобработки, а если архитектура все же представлена «канонично», то невольно начинаешь подозревать ее саму в некоем подвохе. В центре одного из кадров – как бы случайная вывеска «Театр сказки». Быть может, это подсказка…
В 1971 году Андрей Битов написал самый известный постмодернистский роман о Ленинграде – «Пушкинский дом». В приложении к его третьей части автор так охарактеризовал действительность своего времени: «…она монолитна и дырява». Монолитные бетонные (иногда кирпичные) произведения архитектуры соцреализма, двигавшегося к закату, содержали дыры (проемы, порталы), которые становились заметны под определенным углом и лишь тем, кто умел смотреть. Сквозь эти «дыры постмодернизма» можно было порой разглядеть картины иных, порой далеких, мест, но чаще всего – сам Петербург, из «готовых камней» которого вот уже 60 с лишним лет строился «город трех революций».
Если так, то куда же ведут найденные и предъявленные «объекты-проемы» сегодня? Полагаю, что ответ все тот же. Петербург остается главным героем «сказочного театра» на Балтике, за каким бы псевдонимом он ни скрывался и как бы ни хотел запутать следы.
Владимир Фролов
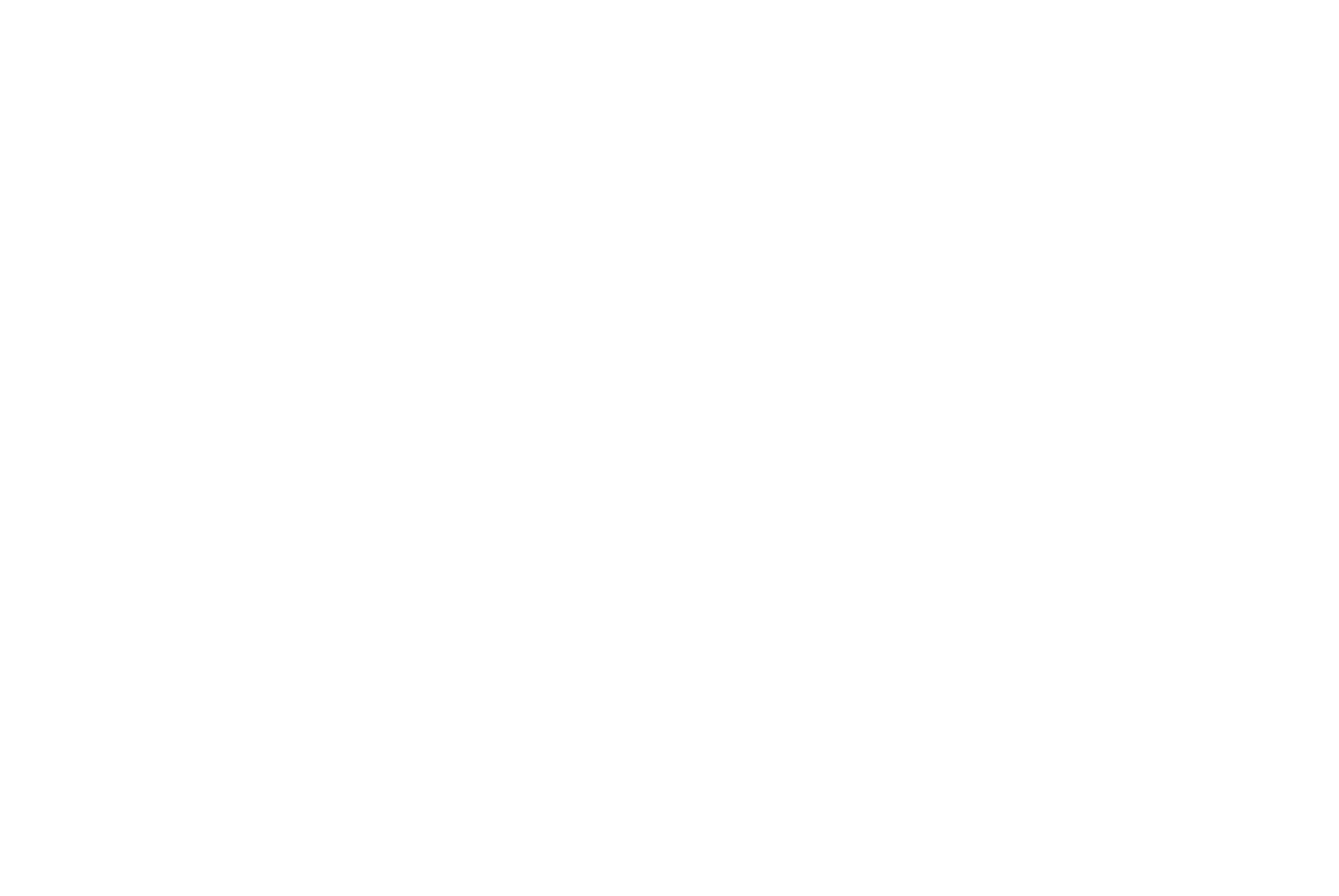
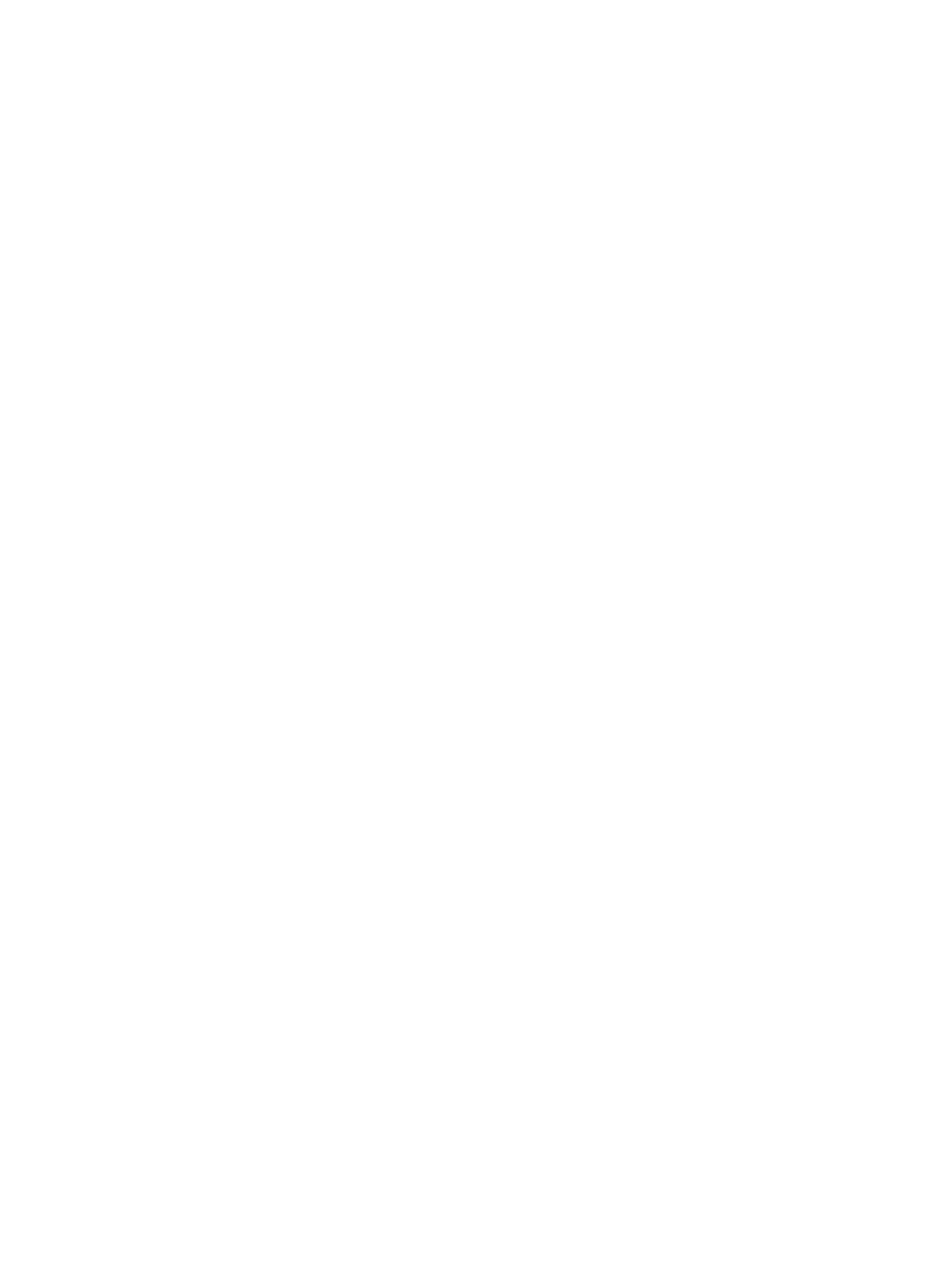
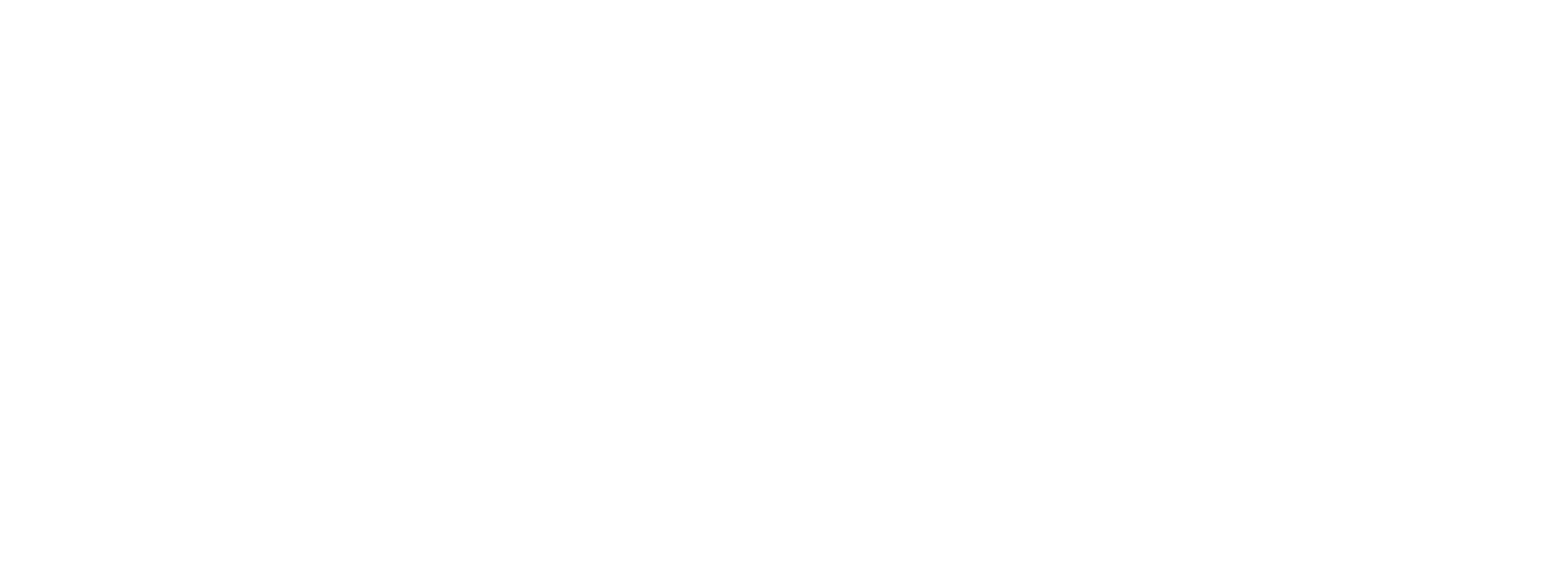
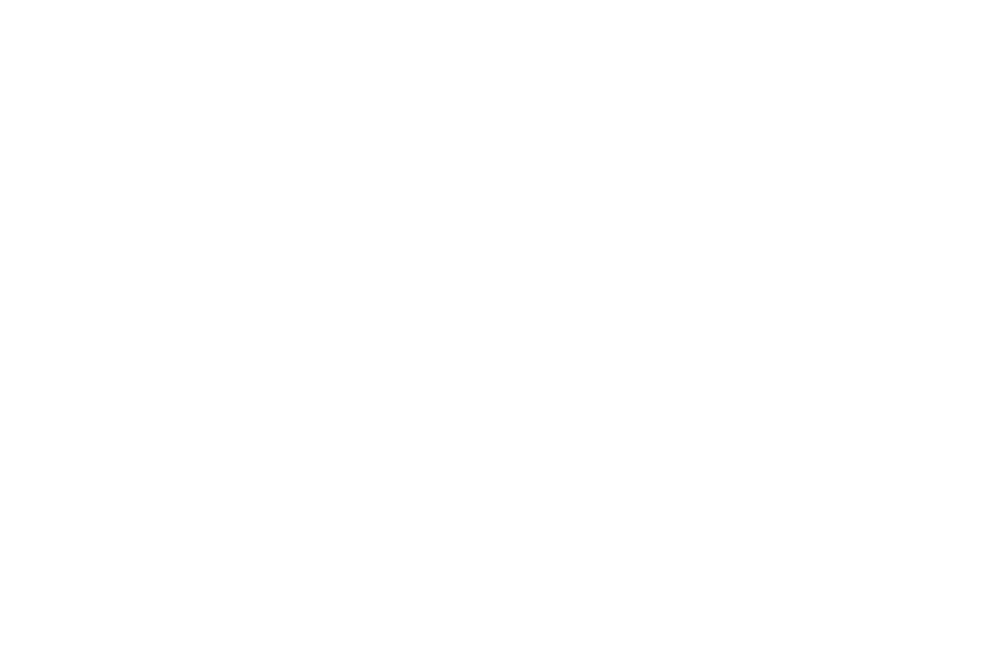

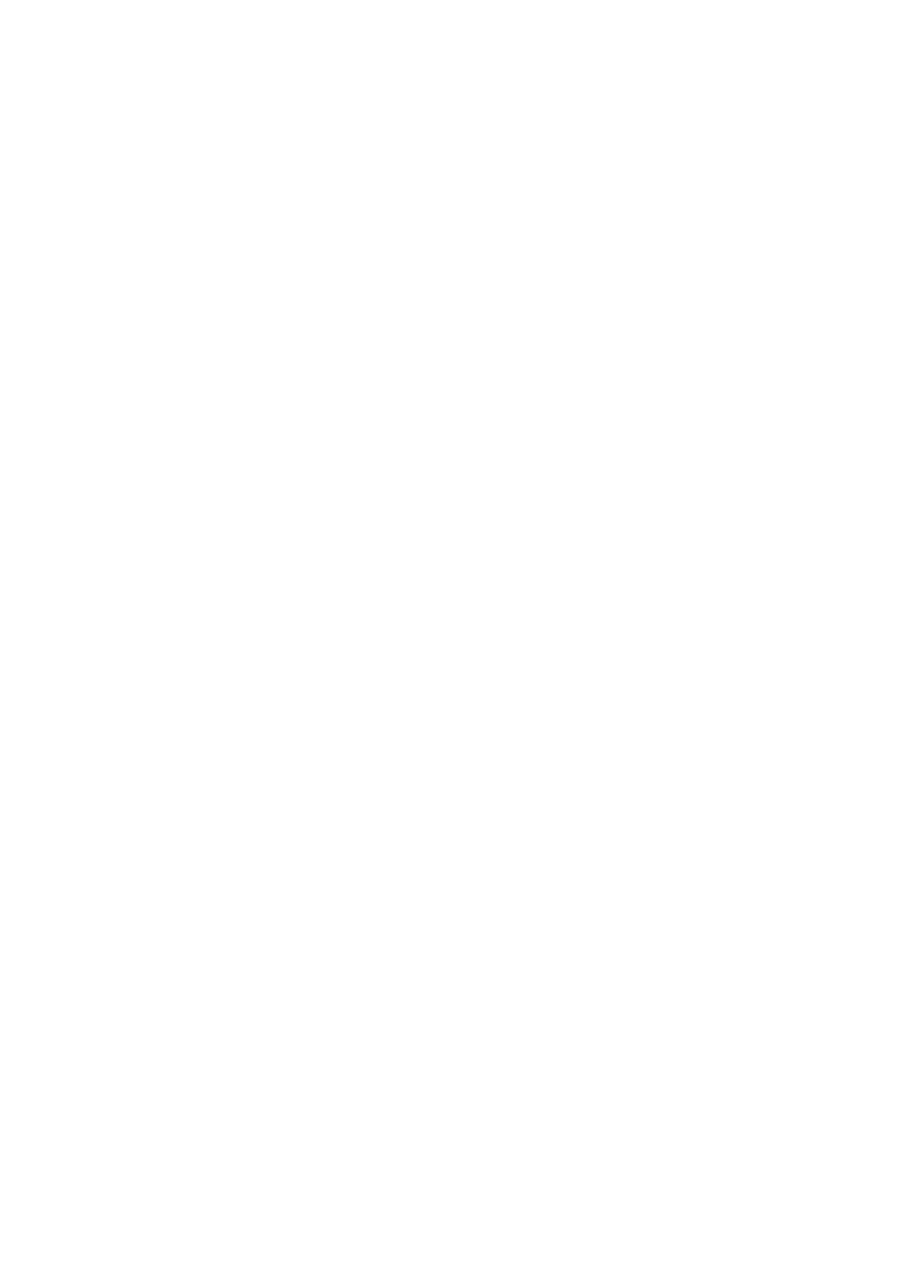
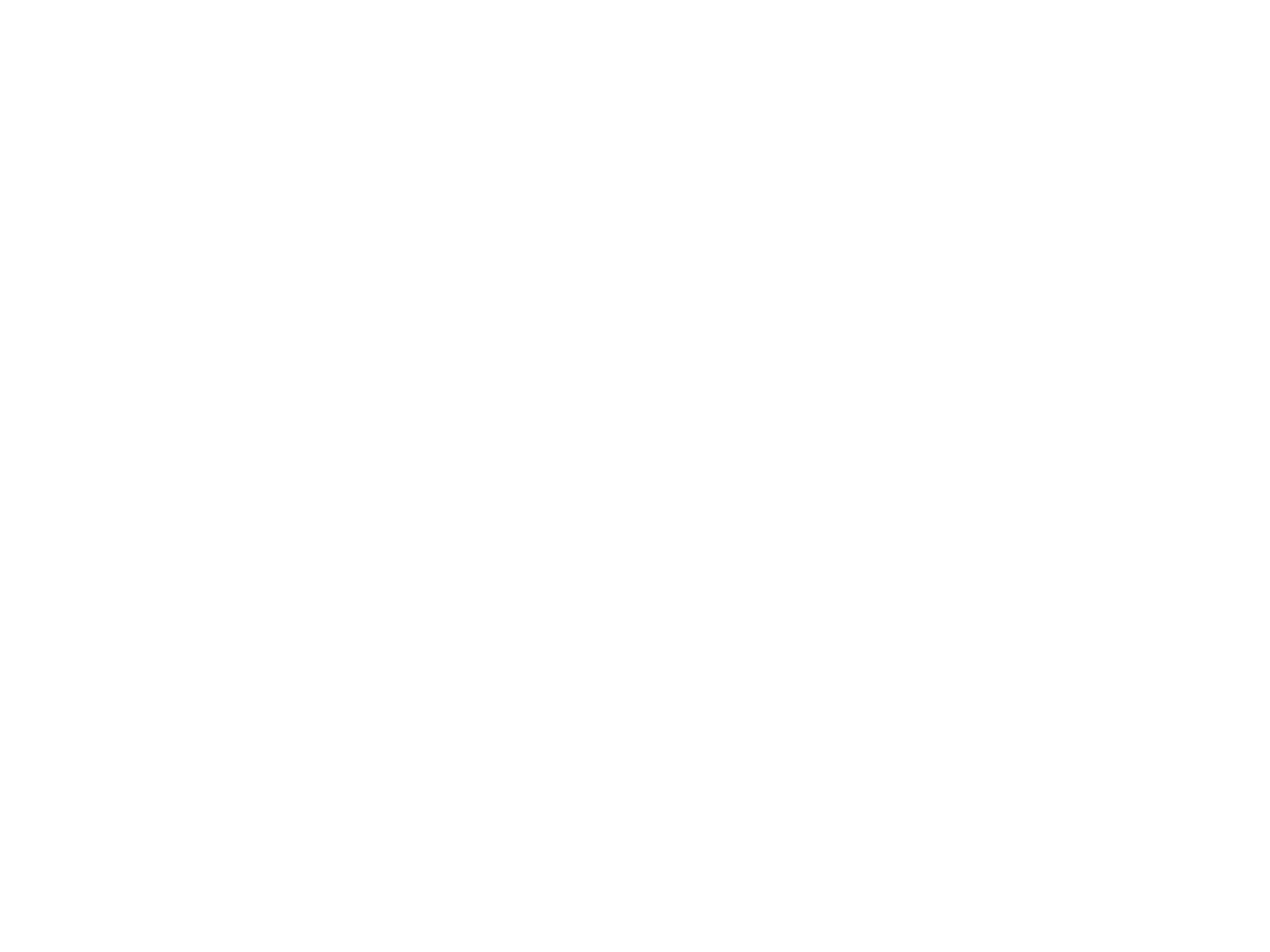
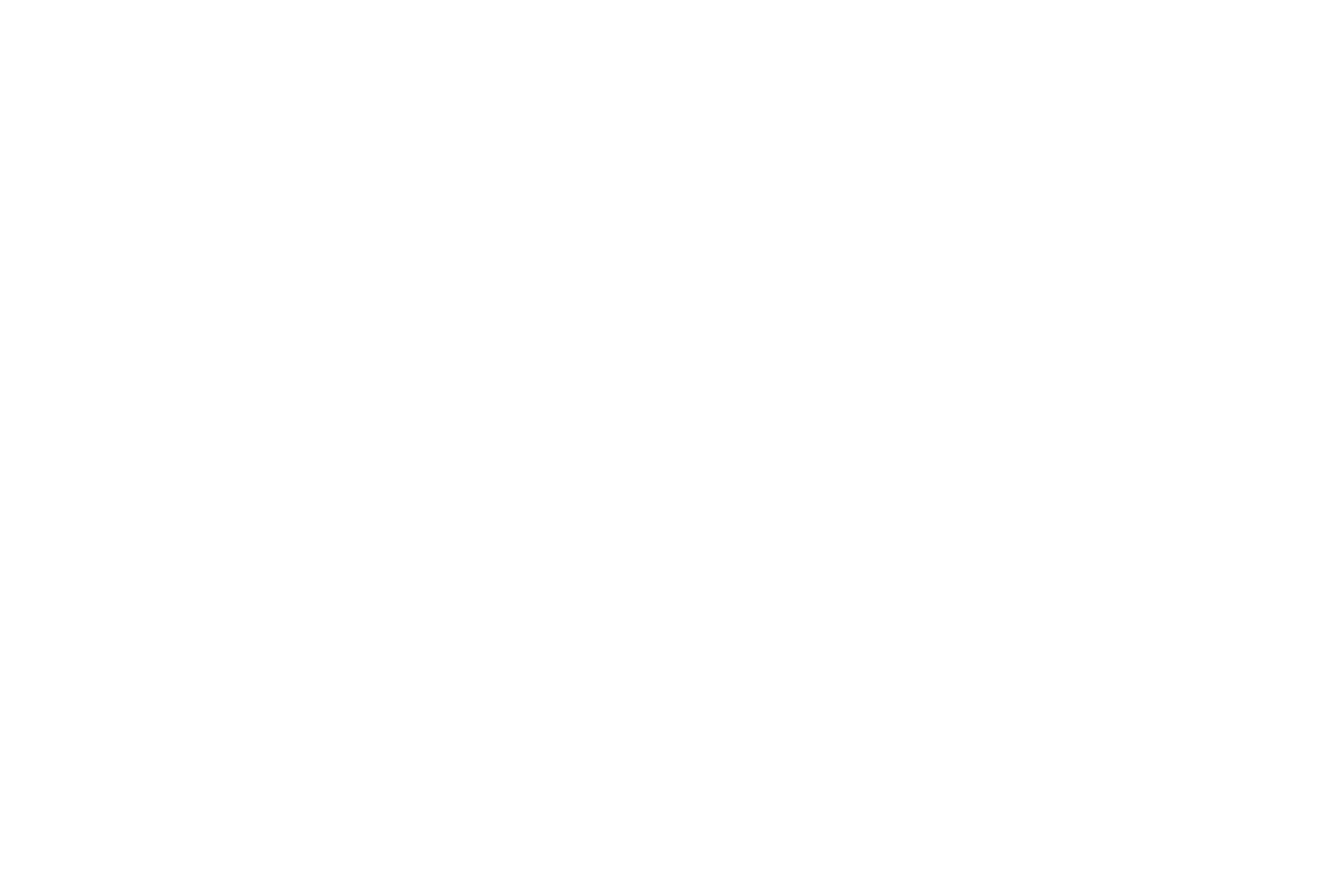
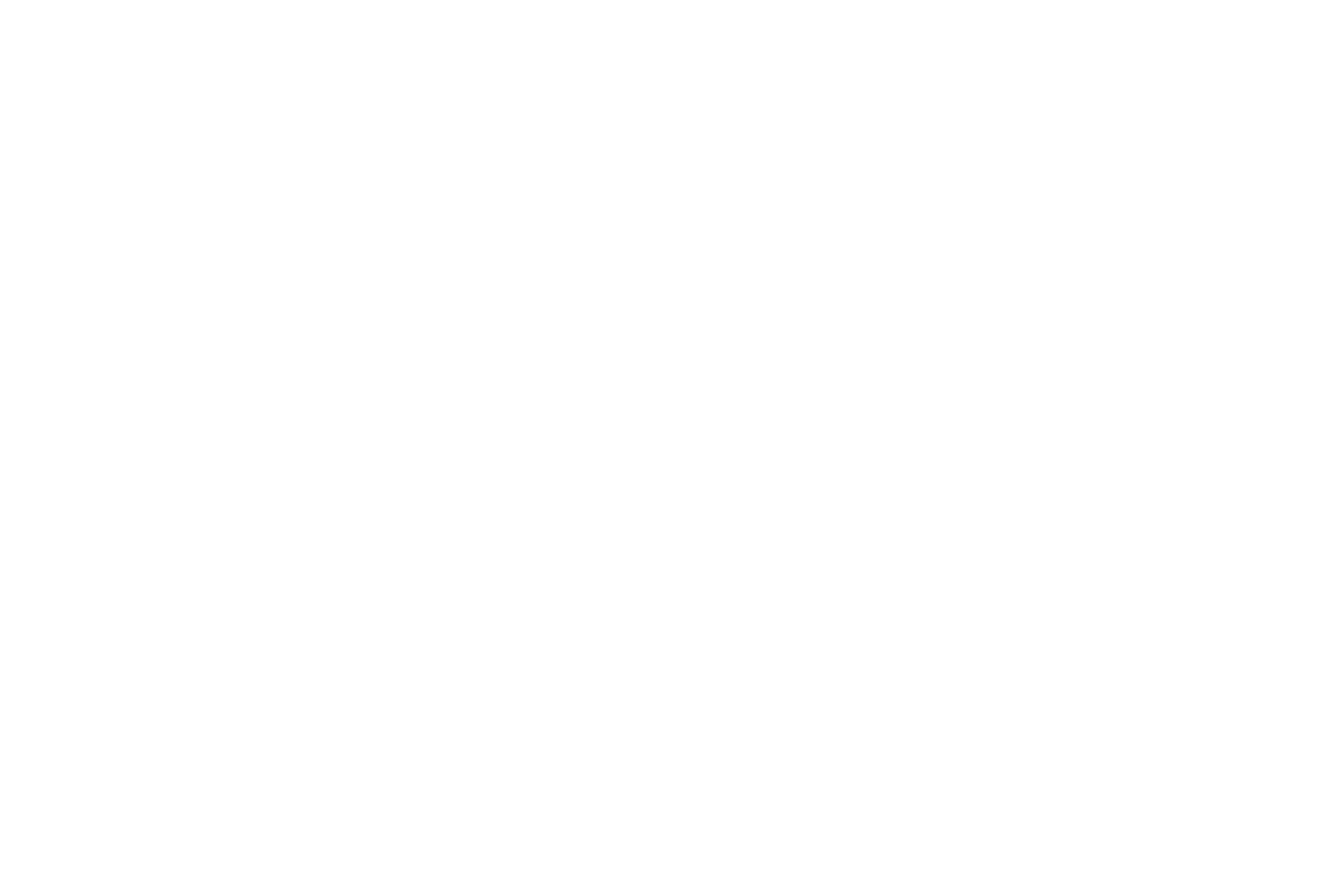
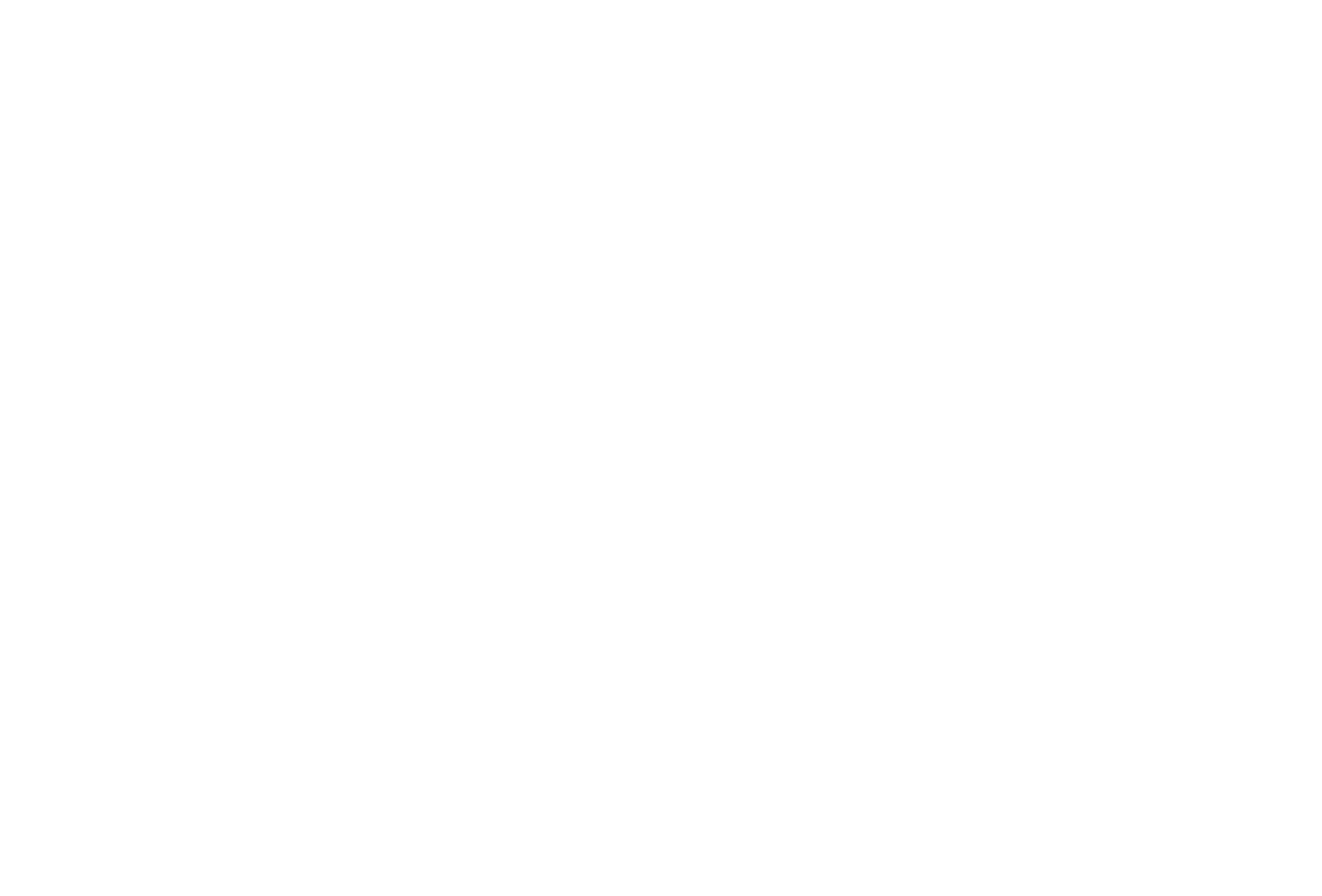
манифест сокуратора
Во всем мире архитектура постмодернизма не только являла собой антитезу модернистской (анти)утопии, но также отвечала на определенные социальные и эстетические запросы общества. Точнее даже – на запросы общества потребления, в какую бы интеллектуальную обложку ни пытались обернуть теоретики эту архитектуру. Вторая половина XX века наполнена борьбой и вынужденным сосуществованием «честных» и принципиальных модернистов и не менее «честных» и беспринципных постмодернистов. И между ними сохранялся баланс. Вспомним, что еще за два года до взрыва «Пруитт-Айгоу» – события, которое Чарльз Дженкс провозгласил концом модернизма, – Микеланджело Антониони в фильме «Забриски Пойнт» «взорвал» постмодернистскую виллу в скалах, созданную Паоло Солери и наполненную элементами буржуазной роскоши.
Советская идеология, экономика и жизнь в целом были настолько иными, что не позволяли художникам не то что воспринять, но даже просто понять истинные причины появления постмодернизма и его источники. Уроки Лас-Вегаса начали штудировать уже в 1990-х, когда появилась соответствующая социально-экономическая реальность. В привычном «западном» понимании этого термина в советской архитектуре не было постмодернизма. А то, что мы называем «архитектурой советского постмодернизма», – исключительно набор формальных приемов и остроумных выдумок, продиктованных стремлением архитекторов, загнанных в прокрустово ложе советского модернизма, к свободе творчества.
Вплоть до самого распада Советского Союза эти постмодернистские мотивы сосуществовали с вполне модернистским поздним брутализмом, который и определял лицо архитектуры страны и города на закате советской власти. Тем не менее к концу 1970-х годов ленинградские архитекторы всё чаще начали обращаться к содержательной стороне архитектуры. Формально не противореча заведенным шаблонам и так уже весьма фривольного брутализма, здания нередко обретали смысловые или символические значения, связанные с их функцией либо местом расположения, а иногда и абстрактные значения.
Здания, показанные на выставке, – крупицы в общей массе позднесоветского наследия Ленинграда – демонстрируют нам удивительное разнообразие путей, по которым шли авторы, робко осваивая новые формы и содержания.
Конечно, самый верный из этих путей – путь прямых ассоциаций. Что может быть логичнее, чем поместить часовую башню на угол часового завода, пусть она даже имеет футуристические, немного гротескные формы?
Логична и одетая в золотую кольчугу-чешую станция метро «Площадь Александра Невского». Художественное оформление перронного зала не ставит своей целью рассказать об Александре Невском как об исторической личности, а просто наполняется абстрактными образами могучих витязей из сказочных древних времен. Для нашего совершенно не древнерусского города Древняя Русь – времена сказок и героических былин. Так в начале XX века – на фоне мрачной и тревожной действительности – Николай II сконструировал себе в Царском Селе маленький древнерусский убаюкивающий мирок, наполненный грезами о былом величии. Постмодернисты отдают себе отчет в том, что сказка – ложь, но устоявшаяся связь всего сказочного и Древней Руси намекает, как аккуратно маркировать кукольный театр сказки на Московском проспекте.
Впрочем, далеко не все образцы ленинградского постмодернизма так содержательно прямолинейны. Архитектура морга больницы им. Ленина, формально вполне бруталистская, наполняется мистическими атрибутами то ли языческого, то ли христианского поминального храма. В оформлении траурного двора-ротонды есть намек на «небеса» церквей Русского Севера, но здесь же и круглая колонная беседка на стилобате – языческий алтарь. Глухой фасад по Среднегаванскому проспекту украшают «античные» полукруглые ниши, а строгая труба котельной отставлена от ротонды ровно на такое расстояние, чтобы явить нам силуэт модернистского храма с колокольней.
Еще один храмовый силуэт – кинотеатр «Подвиг», – напротив, лишен траурного символизма (что логично), а исполнен заздравной оптимистичности, отсылающей нас к эпохе «героического модернизма».
Здание, предназначавшееся для музея фанерного комбината в поселке Понтонном, наполнено сложной игрой с формой и смыслами. Экспериментируя с приемами бионической архитектуры, автор – Игорь Шмелев – как будто пытается «подружить» Фрэнка Ллойда Райта и Ле Корбюзье, «выращивая» из окружающего ландшафта свою собственную капеллу в Роншане. Сюда же вплетается формальная ассоциация с лодками-понтонами, давшими имя поселку. Есть здесь и «музейная» оглядка на здание московского Палеонтологического музея с его криволинейными кирпичными поверхностями.
Но все-таки главным сюжетом постмодернистских поисков в Ленинграде 1980-х стала рефлексия на тему корней, прошлого и образа самого города. Хотя постмодернизм не склонен к прямой мимикрии, он, как губка, впитывает контекст города и перерабатывает его. Спектр велик. Здесь есть и достаточно простые упражнения с классикой: в архитектурных решениях комплекса оранжерей в Таврическом саду или фасадов станции метро «Достоевская». Есть путь аккуратных вкраплений символов города: ростры на обелиске перед бизнес-центром «Нептун», львиные маскароны на здании клиники нефрологии и урологии Первого медицинского университета им. И. П. Павлова.
Художественный образ здания гребной базы Кораблестроительного института на Крестовском острове также обращается к истории места. Своим силуэтом с неожиданно высокой и сложносочиненной крышей гребная база отсылает к дачам времен модерна. Если нацелиться на то, чтобы найти прямой источник, то, вероятно, на ум придет особняк архитектора Р. Ф. Мельцера, но это лишь ассоциация, одна из возможных. Здание не имитирует старую дачу, а только намекает.
Подобный обобщенный историзм свойственен и некоторым другим представленным в экспозиции строениям. Детский сад на Новгородской улице вольно трактует образ небольшого городского особняка с эркерами и асимметричной композицией фасадов. «Синий дом» на Финляндском проспекте дополнен линией арочного пассажа на первом этаже и мансардной крышей как у старого доходного дома. Общие композиционные отсылки к старой архитектуре Петербурга есть и в образах стоматологической клиники на проспекте Науки и жилого дома на 16-й линии Васильевского острова.
Наконец, венцом постмодернистских исканий позднесоветского Ленинграда стал проект станции метро «Крестовский остров» Евгения Рапопорта. Перед нами эталонный постмодернизм. Архитектор использует прием прямого, грубо формального противопоставления классической аркады и модернистской «стекляшки», массивного камня с нарочито простыми обломами и хрупких стекол в тонких рамах. Апофеозом всей этой драмы становится «античная арка» с парящим над ней фронтоном на зеркальной стене в конце перронного зала.
Проект, реализованный уже в 1990-х годах, можно рассматривать как символический финал советской архитектуры в нашем городе и вместе с тем как мостик к архитектуре новых времен.
Андрей Ларионов
Советская идеология, экономика и жизнь в целом были настолько иными, что не позволяли художникам не то что воспринять, но даже просто понять истинные причины появления постмодернизма и его источники. Уроки Лас-Вегаса начали штудировать уже в 1990-х, когда появилась соответствующая социально-экономическая реальность. В привычном «западном» понимании этого термина в советской архитектуре не было постмодернизма. А то, что мы называем «архитектурой советского постмодернизма», – исключительно набор формальных приемов и остроумных выдумок, продиктованных стремлением архитекторов, загнанных в прокрустово ложе советского модернизма, к свободе творчества.
Вплоть до самого распада Советского Союза эти постмодернистские мотивы сосуществовали с вполне модернистским поздним брутализмом, который и определял лицо архитектуры страны и города на закате советской власти. Тем не менее к концу 1970-х годов ленинградские архитекторы всё чаще начали обращаться к содержательной стороне архитектуры. Формально не противореча заведенным шаблонам и так уже весьма фривольного брутализма, здания нередко обретали смысловые или символические значения, связанные с их функцией либо местом расположения, а иногда и абстрактные значения.
Здания, показанные на выставке, – крупицы в общей массе позднесоветского наследия Ленинграда – демонстрируют нам удивительное разнообразие путей, по которым шли авторы, робко осваивая новые формы и содержания.
Конечно, самый верный из этих путей – путь прямых ассоциаций. Что может быть логичнее, чем поместить часовую башню на угол часового завода, пусть она даже имеет футуристические, немного гротескные формы?
Логична и одетая в золотую кольчугу-чешую станция метро «Площадь Александра Невского». Художественное оформление перронного зала не ставит своей целью рассказать об Александре Невском как об исторической личности, а просто наполняется абстрактными образами могучих витязей из сказочных древних времен. Для нашего совершенно не древнерусского города Древняя Русь – времена сказок и героических былин. Так в начале XX века – на фоне мрачной и тревожной действительности – Николай II сконструировал себе в Царском Селе маленький древнерусский убаюкивающий мирок, наполненный грезами о былом величии. Постмодернисты отдают себе отчет в том, что сказка – ложь, но устоявшаяся связь всего сказочного и Древней Руси намекает, как аккуратно маркировать кукольный театр сказки на Московском проспекте.
Впрочем, далеко не все образцы ленинградского постмодернизма так содержательно прямолинейны. Архитектура морга больницы им. Ленина, формально вполне бруталистская, наполняется мистическими атрибутами то ли языческого, то ли христианского поминального храма. В оформлении траурного двора-ротонды есть намек на «небеса» церквей Русского Севера, но здесь же и круглая колонная беседка на стилобате – языческий алтарь. Глухой фасад по Среднегаванскому проспекту украшают «античные» полукруглые ниши, а строгая труба котельной отставлена от ротонды ровно на такое расстояние, чтобы явить нам силуэт модернистского храма с колокольней.
Еще один храмовый силуэт – кинотеатр «Подвиг», – напротив, лишен траурного символизма (что логично), а исполнен заздравной оптимистичности, отсылающей нас к эпохе «героического модернизма».
Здание, предназначавшееся для музея фанерного комбината в поселке Понтонном, наполнено сложной игрой с формой и смыслами. Экспериментируя с приемами бионической архитектуры, автор – Игорь Шмелев – как будто пытается «подружить» Фрэнка Ллойда Райта и Ле Корбюзье, «выращивая» из окружающего ландшафта свою собственную капеллу в Роншане. Сюда же вплетается формальная ассоциация с лодками-понтонами, давшими имя поселку. Есть здесь и «музейная» оглядка на здание московского Палеонтологического музея с его криволинейными кирпичными поверхностями.
Но все-таки главным сюжетом постмодернистских поисков в Ленинграде 1980-х стала рефлексия на тему корней, прошлого и образа самого города. Хотя постмодернизм не склонен к прямой мимикрии, он, как губка, впитывает контекст города и перерабатывает его. Спектр велик. Здесь есть и достаточно простые упражнения с классикой: в архитектурных решениях комплекса оранжерей в Таврическом саду или фасадов станции метро «Достоевская». Есть путь аккуратных вкраплений символов города: ростры на обелиске перед бизнес-центром «Нептун», львиные маскароны на здании клиники нефрологии и урологии Первого медицинского университета им. И. П. Павлова.
Художественный образ здания гребной базы Кораблестроительного института на Крестовском острове также обращается к истории места. Своим силуэтом с неожиданно высокой и сложносочиненной крышей гребная база отсылает к дачам времен модерна. Если нацелиться на то, чтобы найти прямой источник, то, вероятно, на ум придет особняк архитектора Р. Ф. Мельцера, но это лишь ассоциация, одна из возможных. Здание не имитирует старую дачу, а только намекает.
Подобный обобщенный историзм свойственен и некоторым другим представленным в экспозиции строениям. Детский сад на Новгородской улице вольно трактует образ небольшого городского особняка с эркерами и асимметричной композицией фасадов. «Синий дом» на Финляндском проспекте дополнен линией арочного пассажа на первом этаже и мансардной крышей как у старого доходного дома. Общие композиционные отсылки к старой архитектуре Петербурга есть и в образах стоматологической клиники на проспекте Науки и жилого дома на 16-й линии Васильевского острова.
Наконец, венцом постмодернистских исканий позднесоветского Ленинграда стал проект станции метро «Крестовский остров» Евгения Рапопорта. Перед нами эталонный постмодернизм. Архитектор использует прием прямого, грубо формального противопоставления классической аркады и модернистской «стекляшки», массивного камня с нарочито простыми обломами и хрупких стекол в тонких рамах. Апофеозом всей этой драмы становится «античная арка» с парящим над ней фронтоном на зеркальной стене в конце перронного зала.
Проект, реализованный уже в 1990-х годах, можно рассматривать как символический финал советской архитектуры в нашем городе и вместе с тем как мостик к архитектуре новых времен.
Андрей Ларионов
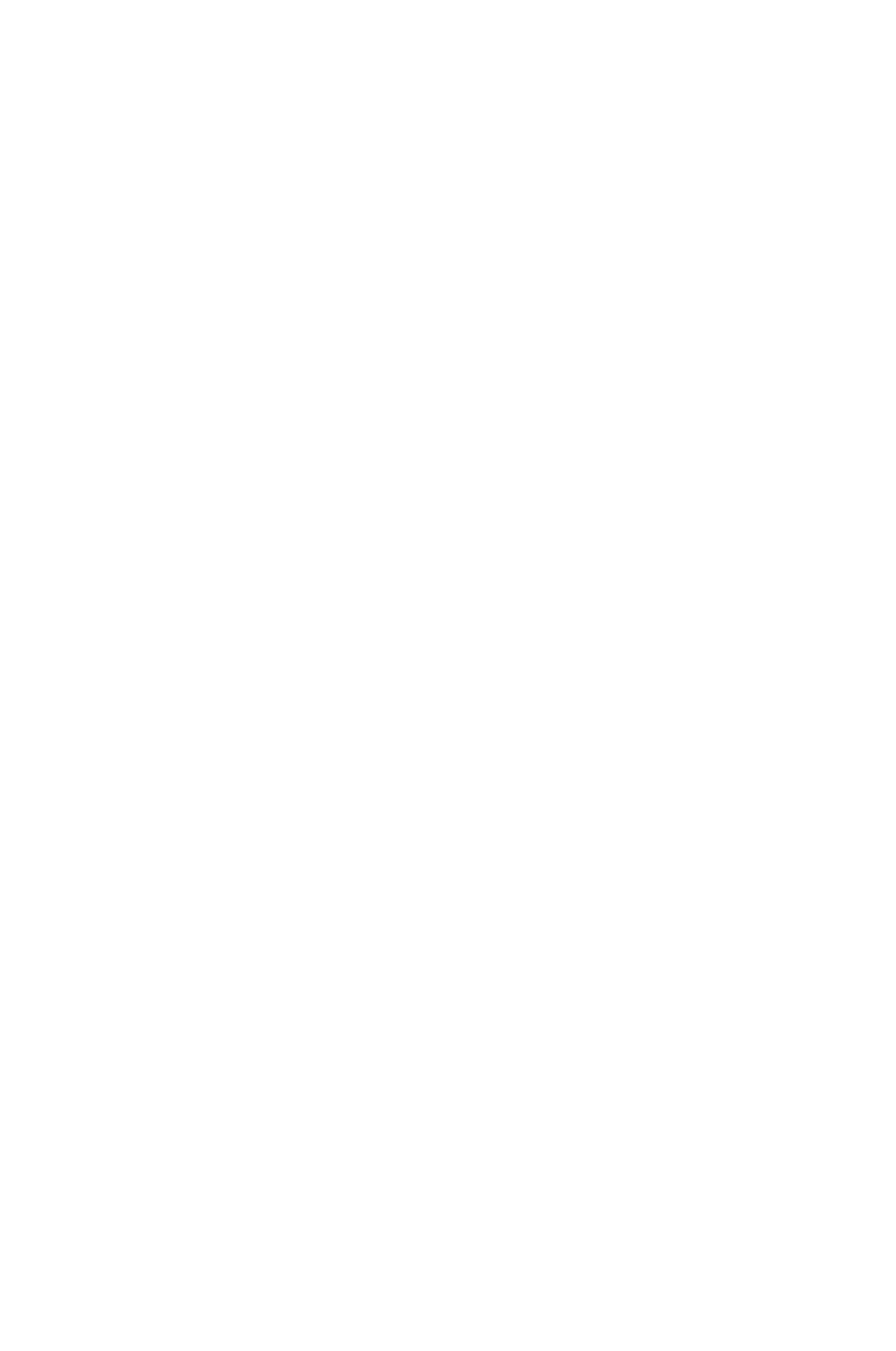
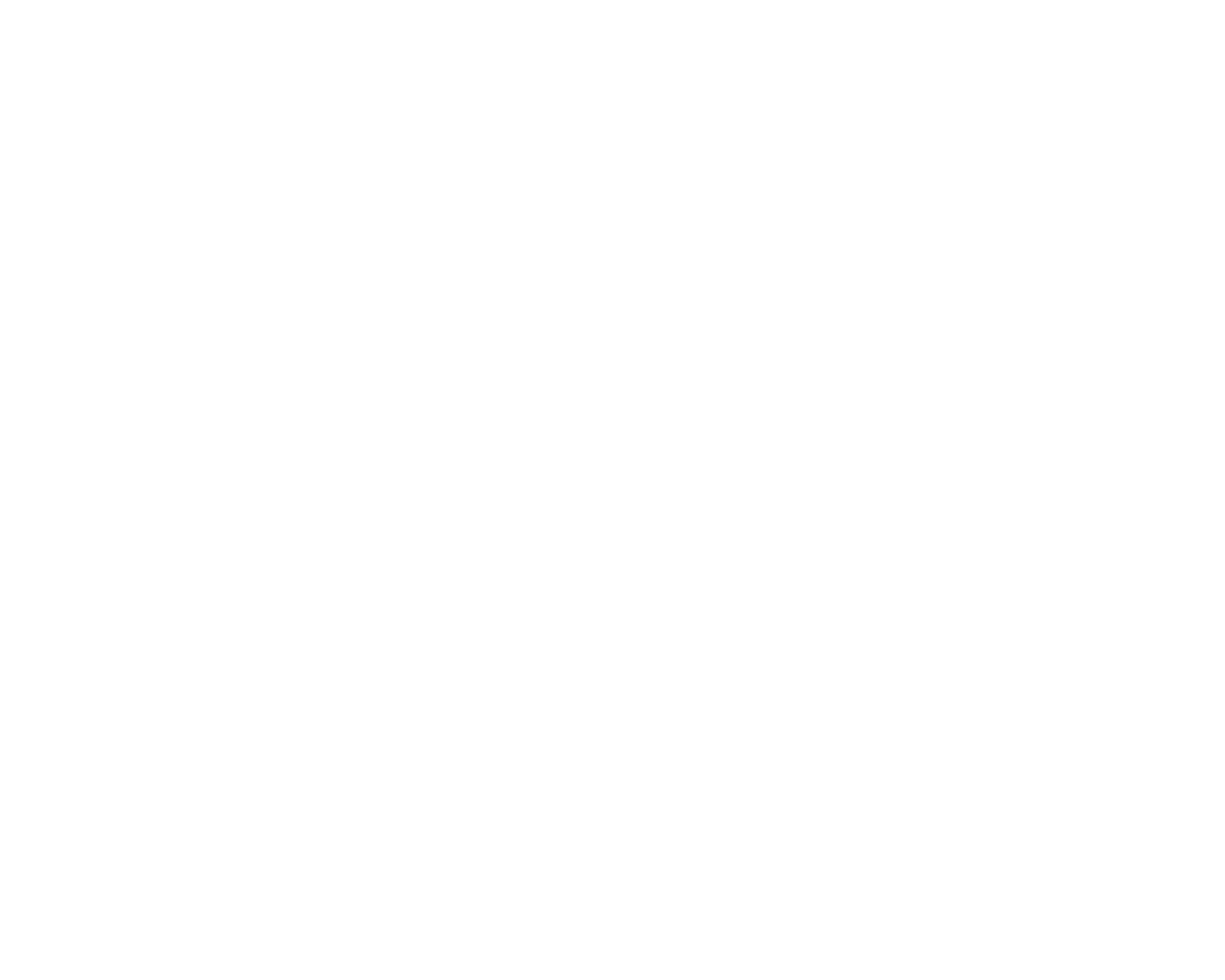
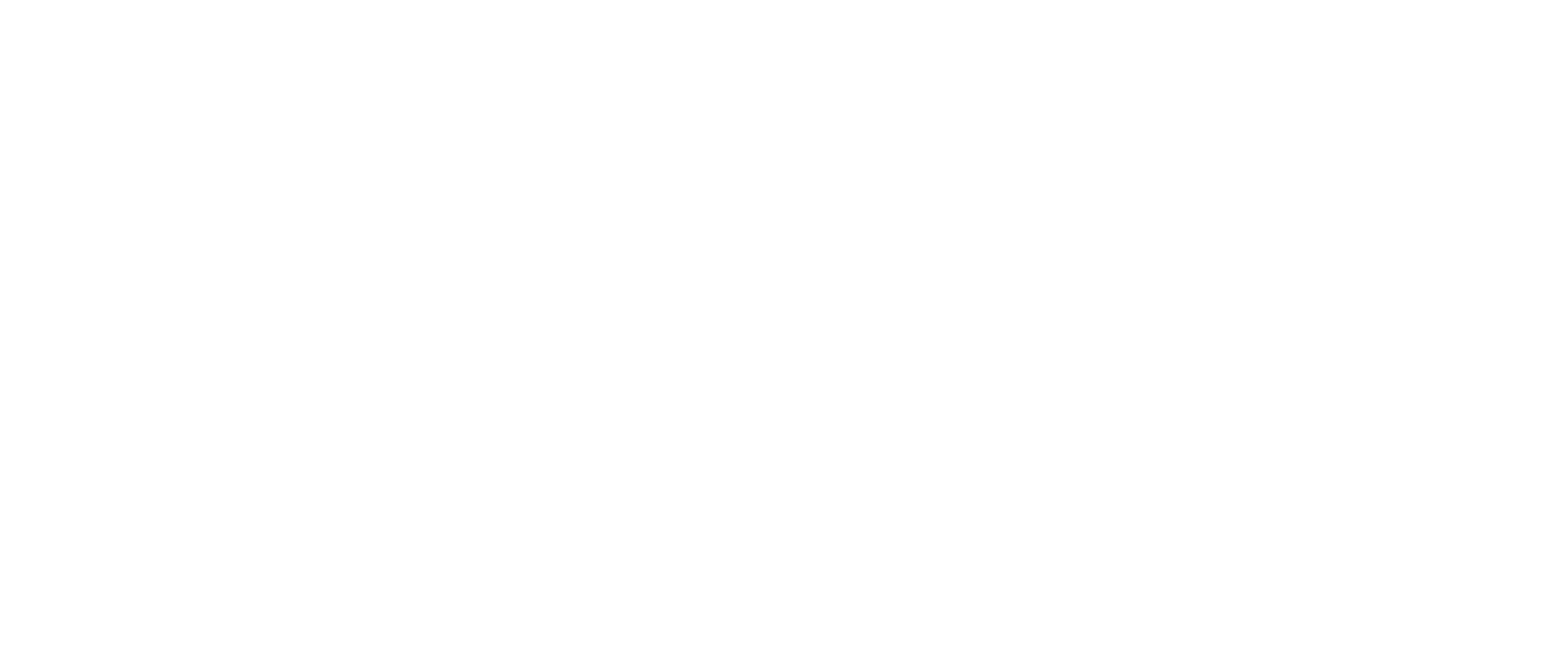
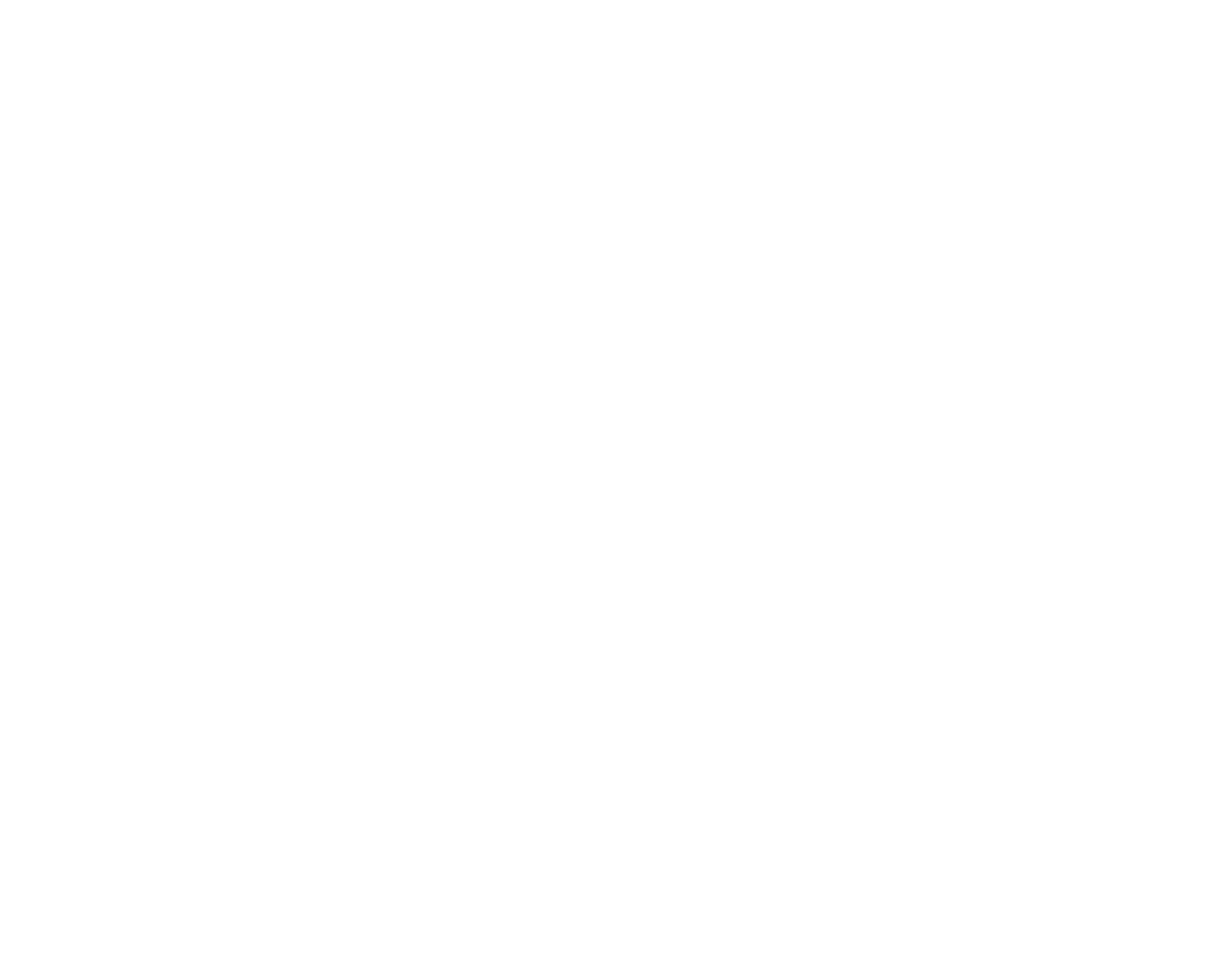
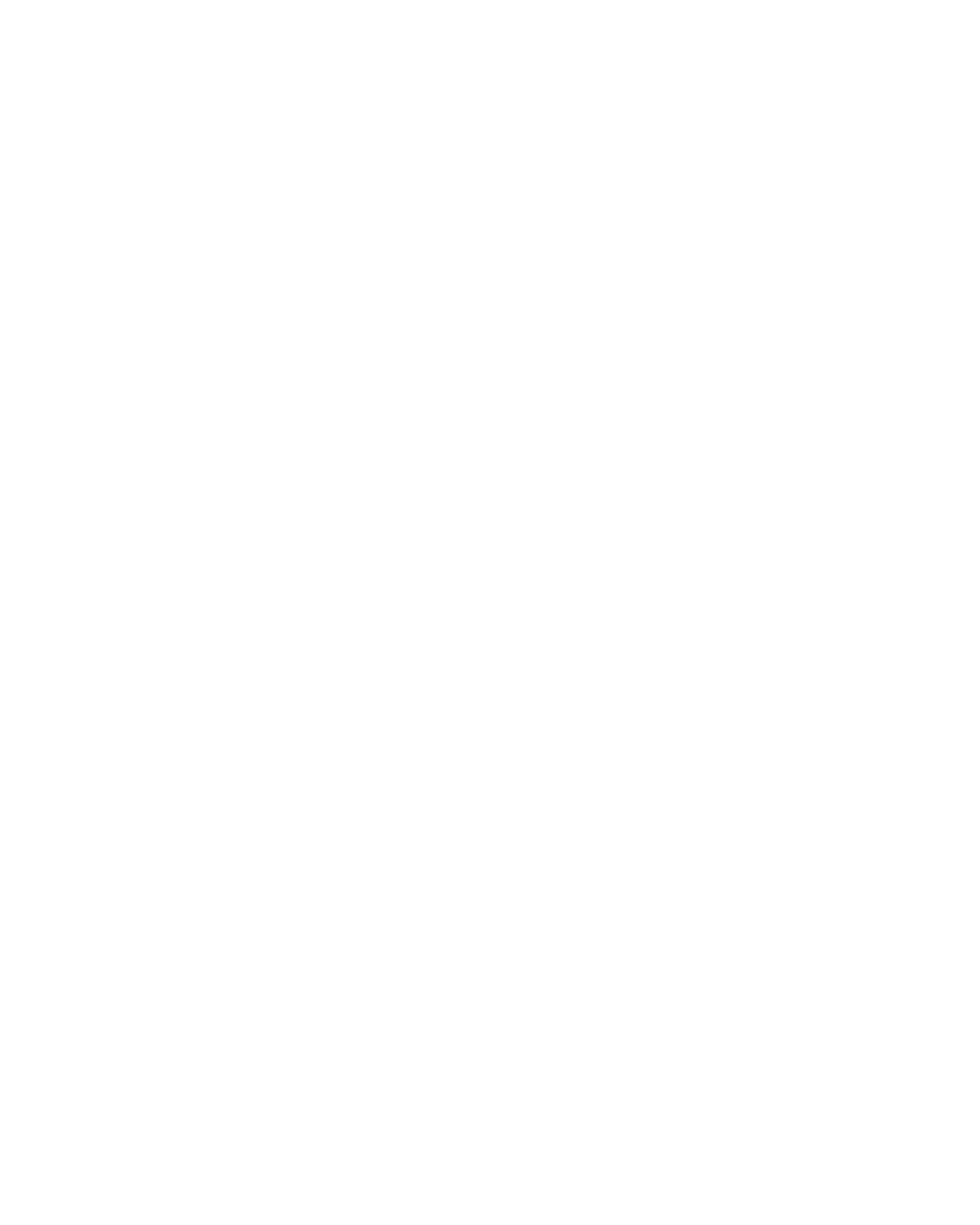
Все три выставки вместе составляют коллекцию зданий и сооружений «эпохи заката», увиденные острым и порой пристрастным зрением фотохудожников нашего времени (среди них такие знаменитости, как Владимир Никитин, Андрей Чежин, Александр Гронский, Владимир Антощенков, Юрий Пальмин). Если первая выставка, согласно концепции куратора, давала художникам полную свободу интерпретации предмета съемки, то вторая стала попыткой соблюсти строгий формат архитектурной фотографии. В процессе создания третьей экспозиции куратор предложил приглашенным фотографам не только учесть стандартные параметры архитектурной съемки, но и отозваться на постмодернистскую стилистику выбранных сюжетов.
18 октября в рамках выставки на площадке Библиотеки и арт-резиденции ШКАФ прошла конференция «Модернизм и постмодернизм в архитектуре и фотографии Ленинграда второй половины XX – начала XXI века», где историки зодчества, искусствоведы, фотографы и архитекторы обсудят сложный феномен переходного стиля, завершившего советский период развития города.
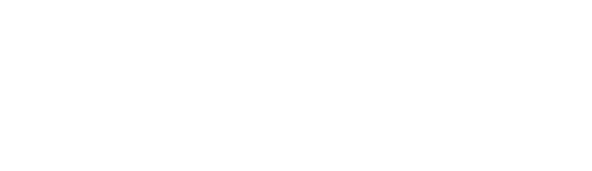
Партнер выставки – световая компания aledo
- Санкт-Петербург
- Санкт-Петербург
- Санкт-Петербург
- Санкт-Петербург
- Санкт-Петербург
- Санкт-Петербург
- Санкт-Петербург
- Санкт-Петербург
- Санкт-Петербург
- Москва
- Санкт-Петербург
- Санкт-Петербург
- Каир
- Санкт-Петербург
- Санкт-Петербург
- Санкт-Петербург
- Санкт-Петербург
- Санкт-Петербург
- Санкт-Петербург
- Москва